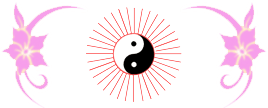Древо Жизни: Скрытая Карта Души.+ЭЛОХИМ
Опубликовал: Ajjana, 27-05-2025, 08:44, Научно-познавательные / Психология 3-его тысячелетия / Духовное, 585
+
Неименуемое Имя». Очерк 3:Имя и откровение
Слово элохим встречается около 2600 раз и является вообще одним из самых частых слов в Библии.
Семитское слово ’l, произносимое в различных семитских языках как иль/илу/эль, служит для обозначения бога и богов почти во всех этих языках (за исключением эфиопского), так что можно быть уверенным, что это древнейшее имя божества на Ближнем Востоке.
В качестве этимологически первичного значения слова ’l и, соответственно, трех указанных евр. слов (хотя не все ученые согласны с тем, что эль и элохим одного корня) делались различные предположения, в частности, их производили от семитских корней, означающих: 1) «идти впереди, быть первым, предводительствовать, вести»; 2) «быть сильным»;
3) «быть связанным, зависимым»: Бог – Тот, от Кого всё зависит; 4) «бояться»: Бог – объект страха-благоговения; 5) «простираться, тянуться к….»: Бог – цель человеческих стремлений. Современные исследователи скептически оценивают все эти этимологии, кроме, пожалуй, «силы/власти» как исходного значения корня ’l (так, напр., W. H. Schmidt, TLOT, ’el, I).
Слово «элохим» (’elohīm) – множественное число от «элоах» (’eloah), весьма близкого к арамейскому обозначению бога (’elah). Форма единственного числа элоах сравнительно редка в Библии, считается поздней (она встречается только в тех книгах, что написаны после Вавилонского плена) и употребляется почти исключительно в поэзии (Втор. 32:15, 17, Пс. 17\18:32, 49\50:22, 113\114:7, 138\139:19, Прит. 30:5, Ис. 44:8, Авв. 3:3, Неем. 9:17), чаще всего в Книге Иова (41 раз; в этой книге элохим, напротив, встречается гораздо реже, чем элоах). Обычно элоах относится к Единому Истинному Богу, но в нескольких случаях означает языческих богов (2 Пар. 32:15, Иов 12:6 [возможный смысл], Дан. 11:39, Авв. 1:11).
Элохим – преимущественное обозначение Единого Бога; в этих случаях это слово употребляется с глаголами и прилагательными в единственном числе (за немногими исключениями, см. ниже). Подобное употребление отмечается в евр. языке и для некоторых других слов – «господин», «хозяин» (об этом в следующем очерке). Надо заметить, что хотя элохим с определительными словами в единств. числе изредка может относиться и к ложным богам, идолам (Суд. 11:24, 1 Цар. 5:7, 3 Цар. 18:24, 4 Цар. 1:2), но обычно оно в этом смысле сочетается со словами во множ. числе: «Да не будет у тебя других богов (’elohīm ’akherīm) пред лицем Моим» (Исх. 20:3, также 32:1 [тут правильно: «сделай нам богов, которые пойдут перед нами»], Втор. 4:28, 6:14, Иис. Нав. 24:15, Суд. 6:10, 10:6, 16, 18:24, 1 Цар. 7:3, 4 Цар. 18:34-35, 2 Пар. 28:23, Иер. 43:12, Ос. 3:1 и др.). Словом элохим обозначается также богиня Астарта (3 Цар. 11:5, 33; евр. язык не имеет слова для обозначения женского божества).
Множ. число слова элохим в применении к Единому Богу дало повод самым различным предположениям, спектр которых колеблется от заявления, что это доказывает первоначальный политеизм библейской религии, до богословских утверждений, что оно указывает на троичный догмат. В последней мысли, как ни покажется это странным представителям строгой науки, содержится глубокий смысл: истинное понятие о Боге превосходит и политеизм, и монотеизм, поскольку Бог выше счета и числа (в чем подлинный, а не внешне догматический смысл учения о триединстве: см., напр., св. Григорий Нисский, Большое огласительное слово, 3; Вл. Лосский, Апофаза и троическое богословие). Смутное ощущение или, скорее, предчувствие этого могло выражаться в отмеченном противоречивом сочетании множ. и единств. чисел. Но, безусловно, чисто исторически и психологически сколько-нибудь ясное сознание триединства Бога в то время невозможно. Что же касается гипотезы о первоначальном многобожии евреев, а точнее, вообще древнейших народов, то она существует в науке, равно как и противоположная – о первоначальном монотеизме, который впоследствии выродился в политеизм. Но обсуждение этого вопроса относится больше к философии религии, что увело бы нас слишком далеко и чему здесь не место. Скажу только, что Вернер Шмидт, профессор Ветхого Завета в Бонне, на которого я уже не раз ссылался, замечает, при обсуждении чередования множ. и единств. чисел при употреблении ’elohīm, о чем мы поговорим чуть ниже, что «эти языковые особенности не подтверждают выводы [школы] истории религий о первоначальном израильском политеизме»; и, в другой связи (со ссылкой на работы В. Айхродта и Э. Кёнига об источниках Книги Бытия): «нельзя понимать употребление ’elohīm как пережиток древнего израильского политеизма» (TLOT, ’elohīm, III.2, IV.6, vol. I, p. 118, 125).
Ученые различно объясняли это множественное число слова ’elohīm в применении к Единому Богу. Еврейские грамматики называли его «множественное сил» (ribbuy hakkokhot, лат. pluralis virium или virtutum), позднее оно получило наименование «множественное превосходства» или «величия» (pluralis excellentiae, magnitudinis или maiestaticus). Все эти названия указывают на то, что множественное число такого типа служит для выражения не количества, а величия, превосходства. По Вильгельму Гезениусу (GKC, § 124, 145), это «множественное абстракции», выражающее отвлеченную совокупность характеристик вещи, что вполне в духе семитских языков: евр. язык использует множ. число для передачи понятий «молодость», «старость», «девственность», «бездетность», «слепота», «упрямство» и т.п.; в поэзии множ. число употребляется для усиления: «верности», «разумения», «надежды», «спасения», «справедливости», «мщения», «темноты», «благородства» и т.п. (в русск. и др. переводах все эти слова, разумеется, стоят в единств. числе). При таком понимании элохим в применении к Единому Богу означает «Божество», «божественное естество» (лат. numem, deitas, divinitas, англ. godhead, нем. Göttlichkeit, франц. divinité). Близко к этому историческое объяснение Уильяма Олбрайта: это одно из проявлений ближневосточной тенденции к религиозному универсализму, «тотальности манифестаций божества» (W. F. Albright, From the Stone Age…, 1960, p. 213).
Есть еще мнение российского семитолога с мировым именем И. Ш. Шифмана, что этимологически ’elohīm не имеет отношения к множ. числу, а суффикс множ. числа -īm является архаическим артиклем (так называемая мимация – присоединение в конце слова буквы мем, характерное для семитских языков явление). Так же обстоит дело в угаритском и финикийском языках, где перемежаются наименования бога в единств. и множ. числе (илу и илум, эль и элим – «бог» и «боги»), также и в угаритском «письме генерала» обозначение бога во множ. числе согласуется со сказуемом в единственном (см.: И. Ш. Шифман, Культура древнего Угарита, М., 1987, с. 85 и 183, прим. 83); в письмах на аккадском языке (XIV в. до н.э., архив Телль-Амарны, Средний Египет) ханаанейские цари обращались к фараону: «мои боги (ilani-ya), бог Солнца»; в эфиопском аmlak, «владыка» во множ. числе, также обычно обозначает Бога (И. Р. Тантлевский, Введение в Пятикнижие, М., 2000, сс. 94–95, сн. 24 и 26).
Если это верно, элохим первично обозначало одного бога (или Бога?) и лишь впоследствии, в результате путаницы, когда определительная функция артикля ‑m в конце слова ’elohīm была забыта, оно стало восприниматься как множественное «боги», хотя при употреблении в отношении Единого Бога, как уже сказано, все относящиеся к нему слова ставились в единственном числе. Замечательно, что эту гипотезу, ставшую возможной только в XX веке, после ряда открытий на Ближнем Востоке, предвосхитил в начале XIX века Шеллинг.
В одном из примечаний к 17-й лекции «Философии откровения» он говорит, что в результате исследования пришел к убеждению, что ’elohīm
«первоначально действительно обозначало лишь одного Бога и притом абсолютно великого, Всебога (All-Gott), каким он поначалу представлялся человеческому сознанию. Происхождение этого имени должно относиться к очень глубокой древности (in ein sehr hohes Alterthum), данное имя даже наверняка принадлежало древнейшему из еврейских языков (der älteste der gebräischen Sprache), в противном случае оно бы не могло с такой неизменностью сохраниться вплоть до позднейшего времени. Но из этого первоначального значения единственного числа (ursprünglicher Singularbedeutung) не следует, что позднее не могло выступить (hervortreten) значение множественного числа, которое это слово имеет по грамматической форме» (русск. перев. А. Л. Пестова в: Ф. В. Й. Шеллинг, Философия откровения, т. 1, СПб, 2000, с. 445).
Это тем более любопытно, что ранее, в 7-й лекции «Историко-критического введения в философию мифологии», он еще объяснял ’elohīm как pluralis magnitudinis, а этимологически производил от глагола, имеющего в арабском значение изумления (см. Собр. соч., т. 2, М., 1989, с. 296; вероятно, речь о глаголе ’aliha, «бояться», который некоторые ученые предполагают в качестве корня ’elohīm, см. выше).
Не случайно в первом повествовании о творении в 1-й главе Книги Бытия автор использует для наименования Бога элохим и только во втором рассказе (Быт. 2) Бог назван Яхвэ элохим: от общего обзора истории творения в 1-й главе автор переходит к истории человека во 2-й главе, почему и возникает потребность присоединить к общему, творческому («космическому») наименованию Бога еще и личное имя, необходимое в отношениях с иной личностью. Расположение рядом обоих имен (с наибольшей во всем Ветхом Завете частотностью оба эти имени подряд встречаются именно в этих первых главах Бытия), очевидно, выражает желание редактора и собирателя источников Пятикнижия (я упоминал о них в предыдущем очерке) подчеркнуть, что Яхвэ – это именно Тот Элохим, Кто сотворил небо и землю. Интересно, что в беседе Змия с Евой (Быт. 3:1-5) священная тетраграмма исчезает и остается только элохим, в чем можно увидеть намек: то отношение к Богу, которое предлагает Змий и принимает Ева, есть отношение к Богу «вообще», в Его космическом измерении, отношение, из которого исключено личностное измерение, символизируемое личным именем Яхвэ. Кстати, из-за неясности с числом слова элохим мы не знаем точного смысла искушения Змия: «будете как боги, знающие добро и зло» (вариант Септуагинты и Вульгаты) или «будете как Бог, зная добро и зло», что предпочитают современные ученые (увы, множ. число глагола yode‘ē [sr. constr. от yode‘īm], «знающие», не помогает: он может относиться как к «вы», так и к элохим). Таргум Онкелоса (древний перевод на арамейский) читается: «будете как вожди (rabrebīn)»; другой таргум (Псевдо-Ионафана, или Иерусалимский I): «будете как великие ангелы», еще один таргум (Неофити): «будете как ангелы пред ГОСПОДОМ [в таргуме сокращение тетраграммы]».
Юрий Вестель
www.religion.in.ua